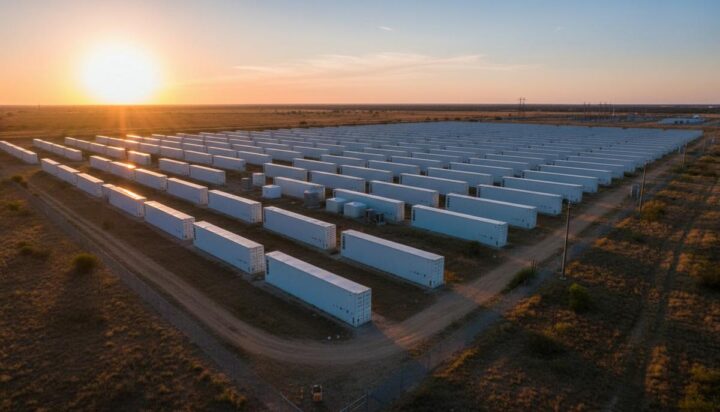Страны Центральной Азии оказались на энергетическом перепутье, стремясь найти баланс между обязательствами по Парижскому соглашению, экономическими реалиями и растущим внутренним спросом на электроэнергию. Глобальные тенденции, такие как опережающий рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по сравнению с углем, сталкиваются с региональной спецификой, заставляя правительства искать нетривиальные решения для обеспечения энергетической безопасности.
На фоне того, что ВИЭ сопряжены с нестабильностью генерации, а субсидирование «зеленых» тарифов ложится бременем на бюджет, страны региона все активнее рассматривают атомную энергетику. Этот вариант выглядит привлекательной альтернативой – он не зависит от погодных условий, как солнечные и ветровые станции, и не производит выбросов парниковых газов, в отличие от углеводородов. Казахстан и Узбекистан, являясь соответственно первым и пятым по величине поставщиками урана в мире, преодолели историческую настороженность к атому и заявили о масштабных планах. В октябре 2024 года в Казахстане прошел общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС, а в мае того же года Узбекистан анонсировал создание атомной станции на базе малых модульных реакторов (ММР).
С тех пор амбиции обеих стран значительно выросли. Казахстан планирует построить не одну, а три АЭС. Один из контрактов предоставлен российскому Росатому, а два других, вероятно, будут переданы китайской корпорации CNNC, что позволит диверсифицировать геополитические риски долгосрочной зависимости. Узбекистан, в свою очередь, пересмотрел первоначальный проект мощностью 300 МВт и теперь планирует возвести два крупных реактора по 1000 МВт каждый. Однако атомная энергетика – это долгосрочное и дорогостоящее решение. Стоимость проекта Росатома в Казахстане оценивается в 14 миллиардов долларов, а мировой опыт показывает, что при строительстве АЭС среднее превышение сметы составляет 1,5 миллиарда долларов, а задержка сроков – около 35 месяцев.
В то время как атомная энергетика остается перспективой будущего, страны региона по-разному подходят к развитию ВИЭ. Для Узбекистана, традиционно зависевшего от собственного природного газа, переход к возобновляемым источникам стал насущной необходимостью. Падение добычи газа и рост потребления привели к тому, что страна стала нетто-импортером газа, а зимние периоды сопровождаются отключениями электричества и дефицитом топлива. В этих условиях Ташкент активно развивает солнечную и ветровую генерацию, привлекая масштабные иностранные инвестиции, в частности портфель в 15 миллиардов долларов от саудовской компании ACWA Power.
У Казахстана ситуация иная. Обладая десятыми по величине запасами угля в мире, страна может на десятилетия обеспечить себя энергией. Переход к ВИЭ для нее – это в большей степени политический выбор, продиктованный международными обязательствами. Правительство субсидирует «зеленые» тарифы, которые в 2–3 раза выше стоимости энергии с угольных ТЭС, и активно развивает ветроэнергетику. Тем не менее экономические реалии заставляют руководство страны говорить о «прекрасном чистом угле» как об основе для питания промышленности и центров обработки данных.
Страны, считавшиеся лидерами в области ВИЭ в регионе – Кыргызстан и Таджикистан, – служат предостережением об опасностях чрезмерной зависимости от одного источника, в их случае – гидроэнергетики. Устаревшая инфраструктура, унаследованная с советских времен, сезонный дефицит воды и огромные затраты на модернизацию и расширение мощностей создают серьезные проблемы. В Кыргызстане выработка ГЭС падает из-за таяния ледников, и страна вынуждена импортировать до 20% электроэнергии. Несмотря на планы по диверсификации за счет солнечных станций, Бишкек также анонсировал строительство новой угольной ТЭС Кара-Кече.
Таджикистан продолжает борьбу с долгостроем – Рогунской ГЭС, которая после завершения должна стать крупнейшей в Центральной Азии. Проект, требующий еще 6,4 миллиарда долларов инвестиций, поднимает фундаментальный вопрос о целесообразности таких гигантских строек в развивающихся экономиках. Несмотря на помощь Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, основное бремя расходов ложится на бюджет страны.
Энергетический переход в Центральной Азии – это не столько революция, сколько процесс перебалансировки. Проекты в сфере ВИЭ и атомной энергетики становятся драйверами региональной интеграции, от восстановления единой энергосистемы советских времен до совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1 Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Новые энергетические проекты также перекраивают торговые потоки, создавая «Зеленый коридор» в Европу и реанимируя проект CASA-1000 для поставок электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Будущее региональной энергетики зависит от способности стран отказаться от внутренних субсидий, привлечь долгосрочные инвестиции и обеспечить доступ к экспортным рынкам. Их подход демонстрирует прагматизм: не полный отказ от углеводородов, а взвешенная калибровка приоритетов в соответствии с финансовыми, геополитическими и технологическими возможностями.